Легендарный железнодорожник будет принимать 4 июля поздравления по случаю 75-летия
В историю он вошел как последний министр путей сообщения СССР. А до этого в 1987 – 1991 годах был начальником Горьковской железной дороги. Незадолго до юбилея наш корреспондент встретился в Москве с Леонидом Ивановичем Матюхиным и попросил его рассказать о времени работы начальником Горьковской магистрали.
– В должность начальника Горьковской железной дороги я вступил 2 января 1987 года. Это было непростое, но тем не менее очень интересное время. Не скрою, назначили меня на дорогу, потому что она работала в целом плохо и была камнем преткновения для пропуска вагонопотоков по обоим ходам, особенно с востока на запад, да и во встречном направлении тоже. К счастью, эксплуатационную деятельность дороги удалось оживить. Коллектив к этому был готов – руководители и дороги, и отделений, и подразделений. Мне очень хотелось бы сегодня это подчеркнуть: не просто там – пришел новый начальник и все стало хорошо, а именно усилиями всего коллектива дороги удалось решить одну из главнейших задач.
Основную трудность представлял прием поездов со Свердловской дороги по обоим стыкам. Балезино и Красноуфимск были двумя болевыми точками, узкими местами, которые не позволяли проехать нормально, обменяться поездами. Красноуфимску не хватало путевого развития. Но с ним некуда было идти: станция ограничена городом и горами – ни удлинить пути, ни дополнительные построить. Поэтому въехать было поездам в Красноуфимск, особенно со стороны Свердловской дороги, исключительно сложно. Отсюда неприемы, брошенные поезда… Очень плохо работал этот участок. Не хватало путевого развития и в Балезино. Нужно было что-то делать.
Во время весеннего осмотра в 1988 году я был на станции Зюрзя. Проблему обсуждали вместе с моим заместителем Анатолием Петровичем Галуниным, с местными руководителями – начальником локомотивного депо Станиславом Сергеевичем Агалаковым, начальником дистанции пути Алексеем Степановичем Сухоницким. Родилась мысль – построить отдельный парк по Зюрзе, не влезать в Красноуфимск, а обмен поездами, технический и коммерческий осмотр и при необходимости замену локомотивных бригад и локомотивов производить не по Красно-уфимску, а по Зюрзе. Она – в десяти километрах от Красноуфимска к востоку, подъезд к ней хороший. Парк построили там – без проектов, без согласований. На противоположной стороне от здания станции находился наш путейский карьер, горы отсева лежали. И вот мы эти горы перевезли на другую сторону, отсыпали будущий парк за лето, поставили опоры для электрификации, бросили решетку – старую, сняли с главных путей – на боковые пути нечетного парка. Уложили четыре пути, новые стрелочные переводы. Осенью полностью закончили этот парк – благодаря усилиям всех служб: работали день и ночь. И проблема пропуска поездов была решена. Эксплуатационные показатели на участке Красноуфимск – Дружинино неизмеримо, в разы улучшились. Не нарушался режим работы локомотивных бригад, четко был организован пропуск поездов.
Что приятно, и сегодня этот парк работает. Мы там уложили пути длинные, по полтора километра, и сейчас это очень хорошее подспорье – 110 условных вагонов можно принимать на эту станцию и отправлять, тяжеловесные со Свердловской дороги, свои формировать, объединять.
Аналогично мы поступили на станции Балезино благодаря усилиям начальника отделения Юрия Ивановича Парфенова и других руководителей. Новый парк построили с нечетной стороны – был опыт работы по Зюрзе. Уложили хорошие пути и дали свободный доступ для движения. Правда, другая проблема возникла с четной стороной. Там вроде бы нельзя было сделать ничего: все зажато. Надо было сдвигать пути вместе с опорами электропередач, с земляным полотном и потом только вести удлинение в сторону запада. Но усилиями Парфенова и коллектива удалось это сделать практически без перерыва движения. Это геройский поступок! Правда, он за это дело получил и выговоры. Несколько окон были передержаны, и сорвались поезда – и грузовые, и пассажирские. Но дело сделали. За это им огромное спасибо. Это их инженерный ум, опыт, настойчивость решили проблему без больших потерь.
Мы сделали удлинение путей и по крупным станциям – Лянгасово, Горький-Сортировочный, Владимир, Шахунья. По Северному ходу было уложено новых путей около 30 километров. Шла такая же работа на Южном ходу. И это тоже достойный уважения поступок руководителей Горьковской дороги, начиная от первого заместителя начальника Ивана Тарасовича Погребного, главного инженера Тимофея Александровича Осипова, заместителя по движению Михаила Матвеевича Рыбалко. Мы проезжали на дрезине по этому Северному ходу и определялись: «Вот здесь. Надо удлинить по этой станции, чтобы улучшить пропускную способность направления в целом». Иногда просто переносили один светофор на 200 – 300 метров – и длина путей на это количество метров увеличивалась. Но были и тяжелейшие станции. Например, Горький-Сортировочный, Лянгасово. Там требовались проекты. Огромную инициативу проявлял Омари Хасанович Шарадзе, работая начальником отделения. Он просто впереди паровоза шел – решал эти вопросы с инженерным пониманием и с ответственностью. Даже иногда требовалось приостановить его немного, не давать ему разогнаться сильно. Человек он опытный, грамотный, ответственный и, конечно, обаятельный.
И вот поезда бегают уже по 70 с лишним вагонов. И это же огромный успех коллектива дороги по наращиванию пропускных и провозных способностей, мы получили эффект полигона.
Я пришел из Министерства путей сообщения на Горьковскую. Мне до этого посчастливилось быть почти на всех железных дорогах СССР. Я в министерстве как раз отвечал за наращивание пропускных способностей, за грузовую коммерческую работу. Именно это и давало возможность взглянуть на ситуацию, которая складывалась на Горьковской. Жили мы днем сегодняшним и думали, что сделать для дня завтрашнего. Думаю, если бы это тогда мы не сделали, трудно было бы представить сегодняшнюю ситуацию на Горьковской дороге.
И это наши люди – коллектив, командный состав. Для примера скажу: хорошо знаю Свердловскую дорогу и работал на ней два десятка лет. У ней те же проблемы пропуска потока по главным ходам. Я подсказывал одному из начальников дороги сходное решение. Но выполнить задачу не удалось…
Горьковская смогла стать базовой дорогой на сети и по вопросам экономики. Мы были пионерами в хозрасчете, проводили хозрасчет в бригадах, цехах, предприятиях, знакомили со своим опытом на сетевой школе. И если бы не события 1991 года, это было прекрасной перспективой.
Горьковская дорога в основном транзитная, в силу этого имеющая грузооборот один из самых больших на сети. Но мы получали прибыль на дороге свыше 50% за счет подсобно-вспомогательной деятельности. Строили мебельные цеха, свинарники… Был такой период – нужно было заработать деньги, и они шли не в бюджет государства, а на дорогу. Кусок мяса нельзя было купить в магазине. А у нас, к примеру, на станции Сейма начальник Арсений Сергеевич Силантьев, участник войны, открыл целую ферму! После выгрузки зерна и комбикорма на этой станции подметали вагоны. Ну что делать, грузополучатель не брал все до последнего зернышка, оставался мусор… И вот этого мусора хватало, чтобы ферму станционную обеспечивать! Кормили десятки свиней, снабжали мясом и свой рабочий коллектив, и отделению дороги помогали, и детским садикам, и школам. Это мелочь, но она характерна в целом для коллектива дороги. Так же наладил дело и начальник Кировского отделения Юрий Иванович Парфенов. Профилакторий, пионерский лагерь полностью поил и кормил молоком и мясом из подсобного хозяйства, которое находилось буквально за речкой.
Я был народным депутатом Горьковского областного совета. Затем депутатом Верховного Совета по 6-му национально-территориальному округу, куда входили Горьковская область и Марийская АССР. Выборы были на альтернативной основе… Столько всего пришлось услышать: поливали и за взрыв в Арзамасе, и за белье мокрое в поездах, и за опоздания – трудно сегодня себе представить. Чего только не написали про меня в подъезде дома, где я жил. Вот так у нас велись выборы. Но невозможно было не почувствовать и поддержки. Прошел в первом туре – 52% голосов. Пользуясь депутатским мандатом, я старался смелее решать вопросы дороги, тех, кто на ней работает, транспорта – где-то со строительством, где-то с отводом земель, укреплял взаимопонимание в регионами. Решили вопрос, который перед нами поставил академик Юлий Борисович Харитон: Арзамас-16 нуждался в прямом поезде на Москву. А это было непросто. Через ЦК КПСС, через Совет Министров СССР добились выделения дороге вагонов, строительства резерва проводников… Пустили поезд!
Сейчас, в канун огромного праздника, который будет отмечать Горьковская железная дорога, я хочу низко поклониться тем людям, с которыми я работал плечом к плечу. Всем, без исключения. Я ни одного руководителя на дороге не снял, хотя проблемы были. Было очевидно: на этих людях держалась Горьковская железная дорога того времени. Наработано было очень много хорошего! И хочется пожелать коллективу дороги и впредь быть на передовых позициях!
Досье
Выпускник Орловского техникума железнодорожного транспорта и Уральского института инженеров железнодорожного транспорта, Леонид Иванович Матюхин прошел на транспорте все ступени – начиная от багажного весовщика на станции Бокситы Свердловской железной дороги. На этой магистрали он проработал около 20 лет в структурах грузовой службы, был заместителем начальника Нижнетагильского отделения. Затем управлял сложными межотраслевыми транспортными системами как заместитель начальника Промжелдортранса в Министерстве автотранспорта РСФСР, начальник Главного управления промышленного железнодорожного транспорта МПС, руководитель главков этого министерства. С этим огромным опытом хозяйственника Леонид Матюхин и пришел на Горьковскую железную дорогу.Волжская магистраль, №25, 2012 г.,
http://zdr.gudok.ru/pub/10/197019/
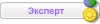


![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif) - ибо при 3-кратном увеличении даже тогдашнего плацкартного тарифа, "валовый сбор" с плацкартного вагона становился бы в 2 раза больше чем с заведомо безубыточного купейного.
- ибо при 3-кратном увеличении даже тогдашнего плацкартного тарифа, "валовый сбор" с плацкартного вагона становился бы в 2 раза больше чем с заведомо безубыточного купейного.


